
В экономике есть истории триумфов и провалов, но мало какая школа мысли оставила такой след, как Чикагская. Ее идеи в XX веке покорили умы политиков, экономистов и целых наций.
Однако у нее нашлось немало критиков не только из лагеря «левых», но и среди представителей классического либерализма. По их мнению, Чикагская школа монополизировала экономическую теорию, превратив свободный рынок в универсальное решение всех проблем — от диктатур до бедности. Подобный догматизм, как считают оппоненты, привел глобальную экономику к серии кризисов, последствия которых мы еще долго будем наблюдать.
ForkLog разобрался, как Чикаго стал синонимом неолиберализма, за что его критикуют и какие альтернативы предлагают сторонники более традиционных либеральных доктрин.
От Найта до Фридмана: рождение экономической суперсилы
Чикагская школа зародилась еще в 1920-х годах благодаря Фрэнку Найту, который видел в рынке не только механизм обмена, но и двигатель индивидуальной свободы. Однако настоящий расцвет направления пришелся на середину XX века, когда Милтон Фридман, Джордж Стиглер и Гэри Беккер превратили предыдущие наработки в полноценную интеллектуальную силу, определившую направление мировой экономики. Их идеи опирались на три ключевых принципа:
- Монетаризм. Фридман утверждал, что стабильность экономики достигается через контроль денежной массы (например, через ее фиксированный рост на 3–5% в год).
- Рациональные ожидания. Экономические агенты действуют на основе всей доступной информации, что позволяет рынку самостоятельно находить равновесие.
- Критика кейнсианства. Чикагские экономисты отвергали идеи Джона Мейнарда Кейнса, считая государственное регулирование неэффективным и вредным.
Стиглер развил теорию регуляторного захвата, показав, как государственные институты часто служат интересам бизнеса, а не общества. Беккер расширил экономический анализ на социальные сферы, такие как преступность и образование. В отличие от Австрийской школы, настаивавшей на субъективной теории ценностей (например, в работах Фридриха Хайека), Чикаго опиралось на строгие математические модели и эмпирические данные.
После Великой депрессии и Второй мировой войны, когда кейнсианство, поддерживающее государственное вмешательство, стало доминировать, представители Чикаго столкнулись с необходимостью ответить на вызов. В то время многие экономисты, разочарованные во «всемогуществе» рынков, видели в государстве эффективный инструмент решения масштабных задач. Кейнсианские идеи, изначально сложные и противоречивые, были упрощены экономистами Гарварда и MIT в математические модели, на основе которых давались практические рекомендации.
По мнению Дэвида Коландера и Крейга Фридмана — авторов книги Where Economics Went Wrong: Chicago’s Abandonment of Classical Liberalism — Чикагская школа, защищая рынок, отошла от методологии классического либерализма, пожертвовав научной объективностью ради продвижения сугубо политических идей.
Чикагцы видели в кейнсианстве и заигрывании с коллективизмом угрозу свободному обществу, что оправдывало их бескомпромиссный подход. Дискуссии в школе велись с «питбульей свирепостью», а Стиглер даже предлагал исключить историю экономической мысли из образовательных программ, чтобы молодые специалисты не сомневались в рыночных принципах.
Этот подход помог чикагцам превратить свои идеи из маргинальных в мейнстрим. Ключевым моментом стала статья Фридмана The Methodology of Positive Economics («Методология позитивной экономической науки»), в которой он, ссылаясь на разграничение Кейнса, исключил из анализа «искусство экономики», утверждая, что споры о политике можно разрешить в рамках строгой науки.
Идеи школы нашли отклик у ведущих мировых политиков. В 1980-х годах Рональд Рейган в США и Маргарет Тэтчер в Великобритании воплощали чикагские принципы: дерегуляция, приватизация, снижение налогов. Экономический рост в этих странах укрепил репутацию школы. Чикагские экономисты стали звездами, они консультировали правительства и задавали тон академическим дебатам.
Однако, как отмечают Коландер и Фридман, школа превратила рынок в догму, а экономику — в идеологию. Подобно фрейдизму, который, по замечанию французского психоаналитика Флорана Габаррона-Гарсиа, из метода исследования стал «религией», Чикаго продвигал рынок как универсальное решение, отвергая любые сомнения. Это ознаменовало разрыв с классическим либерализмом Джона Стюарта Милля, который сочетал поддержку рынка с заботой о социальных ценностях и справедливости. Утрата этого баланса, как считают критики, сказывается на экономической науке до сих пор.
Неолиберализм в действии: Чили, Тэтчер и глобальные реформы
Чикагская школа тестировала свои идеи в реальном мире, и ее влияние вышло далеко за пределы академии. Одним из ярких примеров стала Чили времен диктатуры Аугусто Пиночета. Выпускники Чикагского университета, прозванные прессой «чикагскими мальчиками», внедрили монетаристскую политику, приватизацию (включая уникальную пенсионную систему, основанную на частных фондах) и дерегуляцию.
На бумаге результаты впечатляли, отражая уверенное развитие и макроэкономическая стабильность. Однако за красивыми цифрами скрывались рост неравенства, бедность значительной части населения и социальная напряженность. Реформы игнорировали местный контекст, что привело к неоднозначным итогам.
В тэтчеровской Великобритании идеи Чикагской школы легли в основу приватизации госкомпаний (например, British Telecom) и сокращения роли профсоюзов. Это повысило эффективность экономики, но привело к упадку промышленных регионов и усилило социальное расслоение. Обещанное процветание досталось немногим, а рабочий класс оказался в кризисе.
Глобально чикагские принципы нашли отражение в Вашингтонском консенсусе, продвигавшемся МВФ и Всемирным банком. Либерализация рынков, сокращение госрасходов и открытость для иностранных инвестиций стали стандартом для развивающихся стран. Однако есть и негативные примеры:
- Россия 1990-х. «Шоковая терапия» и непрозрачные методы приватизации привели к экономическому хаосу, росту политического влияния олигархии и социальному неравенству. Слабые институты не смогли поддержать рыночные реформы;
- Азиатский кризис 1997–1998 годов. Политика МВФ, основанная на чикагских принципах, усилила спад в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд и Индонезия, из-за игнорирования особенностей работы местных финансовых систем.
Позитивный опыт тоже был. Например, дерегуляция авиаперевозок в США в 1978 году, вдохновлеенная чикагскими идеями, снизила цены на билеты и повысила конкуренцию, сделав перелеты доступнее. Однако подобные примеры не убедили противников концепции.
Критика догматизма: где рынок не оправдал ожиданий
Критики Чикагской школы, включая нобелевского лауреата Джозефа Стиглица и «современного Маркса» Тома Пикетти, указывают на ее чрезмерную веру в рациональность рынка и игнорирование реальных сложностей. Стиглиц подчеркивал, что асимметрия информации (когда одна сторона сделки знает больше другой) делает рынок несовершенным, требуя государственного надзора. Пикетти в ставшем классическом труде «Капитал в XXI веке» и в книге «Капитал и идеология» показал, что неолиберальные реформы усилили неравенство, концентрируя богатство у немногих.
Турецкий экономист Дэни Родрик также критиковал универсальные рецепты Чикаго, которые не учитывали местные контексты, приводя к нестабильности в Латинской Америке и Африке.
Еще одна слабость школы — игнорирование внешних эффектов, таких как экологический ущерб. Свободный рынок, не ограниченный регулированием, часто перекладывал издержки загрязнения на общество, что стало очевидным в XXI веке с ростом климатических проблем.
Поведенческая экономика, развитая Даниэлем Канеманом и Амосом Тверски, опровергла идею рационального субъекта, показав, что люди как участники рынка часто действуют под влиянием эмоций и когнитивных искажений. Это подорвало чикагские модели, основанные на идеализированных предположениях.
Рецессия 2008–2013 годов стал кульминацией глобальных проблем, вызванных политикой неолиберализма. Дерегуляция финансовых рынков, вдохновленная чикагскими идеями, надула спекулятивный пузырь, который обрушил мировую экономику. Кризис показал, что рынок не всегда самокорректируется, а отсутствие надзора может привести к катастрофе.
Это подорвало доверие к школе, открыв путь альтернативным подходам, таким как новое кейнсианство и уже упомянутая поведенческая экономика. Чикаго недооценил сложность социальных систем, а догматизм сделал его теорию уязвимой перед реальными вызовами.
Классический либерализм: забытый баланс
Классический либерализм Милля предлагал сбалансированный взгляд. Британский мыслитель называл экономику «моральной наукой», которая направляет рынок на службу обществу, а не диктует ему правила.
Он поддерживал свободный рынок, но выступал за прогрессивное налогообложение, защиту прав рабочих и социальные реформы для смягчения неравенства. Государство, по Миллю, должно быть арбитром, который обеспечивает баланс между индивидуальной свободой и общественным благом.
Чикагская школа отбросила эту сложность, сделав рынок единственным мерилом успеха. Коландер и Фридман отмечали, что это упрощение оторвало экономику от человеческого опыта, сосредоточившись на абстрактных моделях. В отличие от Чикаго, классический либерализм признавал важность культурных и социальных факторов. Например, скандинавские демократии успешно сочетают рыночную экономику с сильной социальной защитой, что привело к высокому уровню жизни и низкому неравенству. Эти модели показывают, как идеи Милля могут работать в современном мире.
Дебаты о безусловном базовом доходе или усилении социальной защиты в условиях автоматизации, также перекликаются с идеями классика экономической теории. Они подчеркивают необходимость гибкости и внимания к уязвимым группам, чего не хватало чикагскому подходу. Классический либерализм предлагает более гуманистическую альтернативу, сочетая рынок с социальной ответственностью.
Уроки для экономики XXI века
Сегодня Чикагская школа сохраняет влияние в микроэкономике, но ее монополия на экономическую мысль закончилась. Финансовый кризис 2008 года и рост неравенства показали реальные границы применения ее теорий.
Современный экономический мейнстрим — это плюрализм, где сочетаются рыночные механизмы, государственное регулирование и междисциплинарные подходы, такие как поведенческая экономика.
Главный урок Чикагской школы — опасность догматизма. Ее вера в рынок как универсальное решение напоминала религиозный фанатизм, где сомнения считались ересью. Экономика XXI века требует гибкости, учета человеческого фактора и внимания к социальным и экологическим вызовам.
Классический либерализм, с его акцентом на баланс, остается актуальным, напоминая, что экономика — это не только уравнения, но и живая система, где ключевую роль играют люди.
Текст: Анастасия О.

 1 day ago
6
1 day ago
6




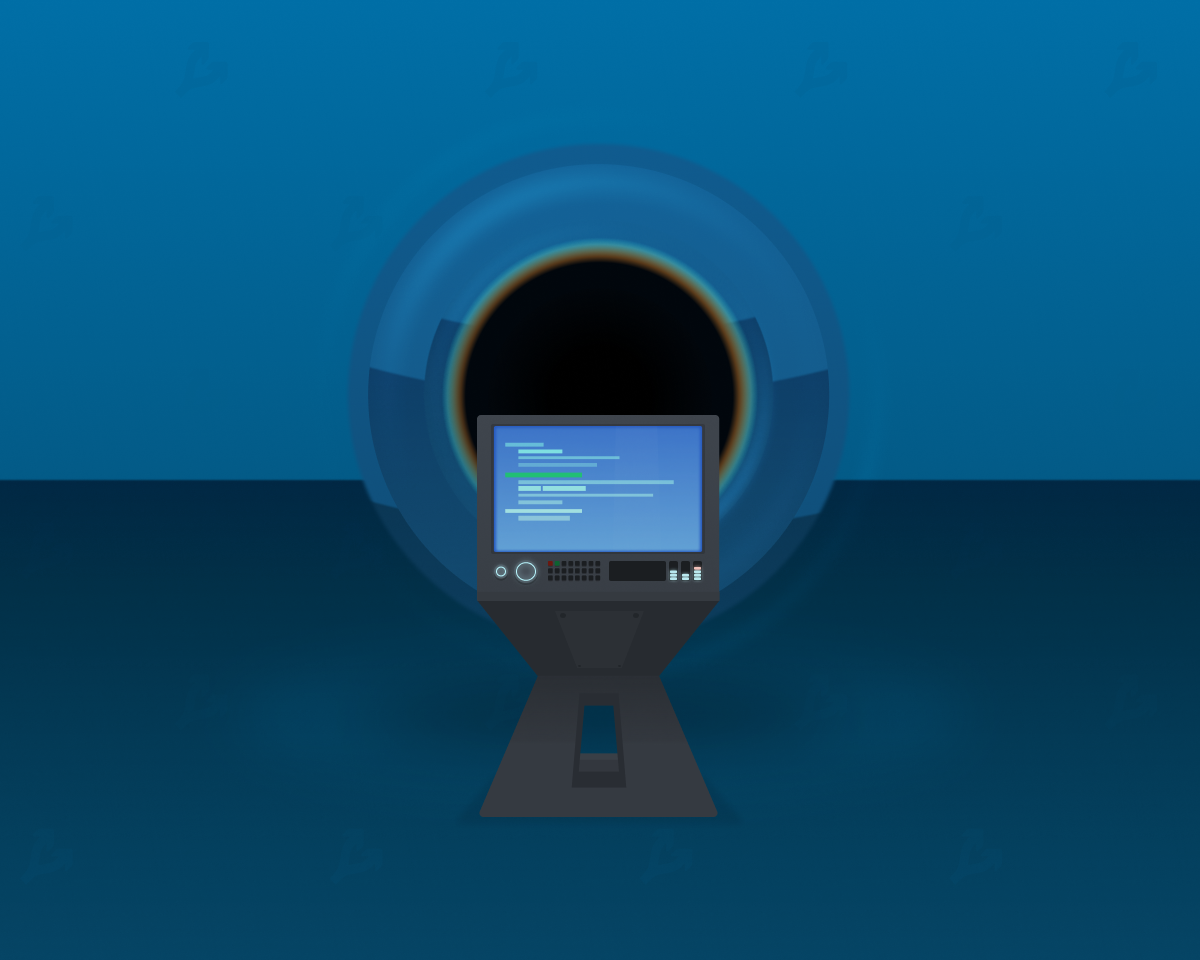
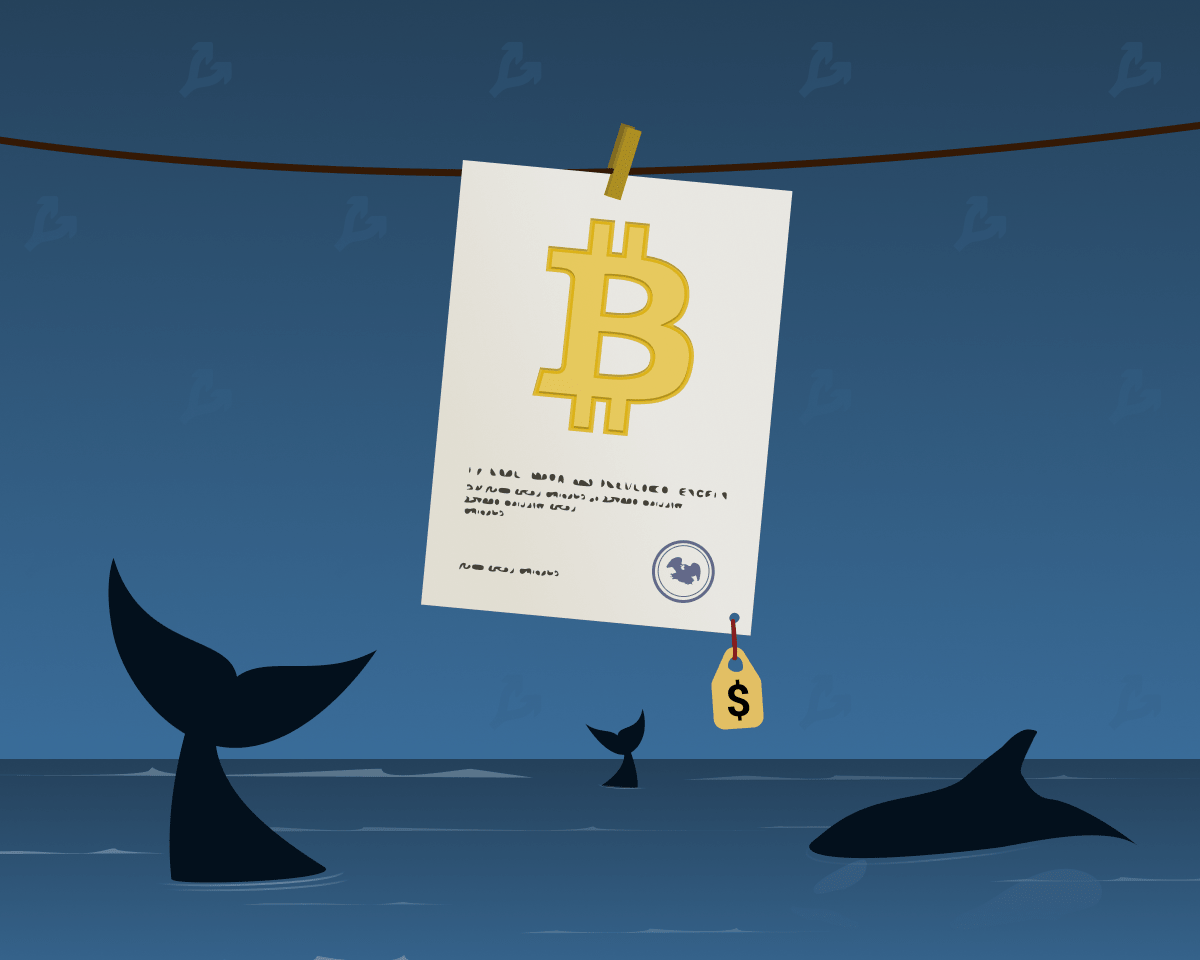





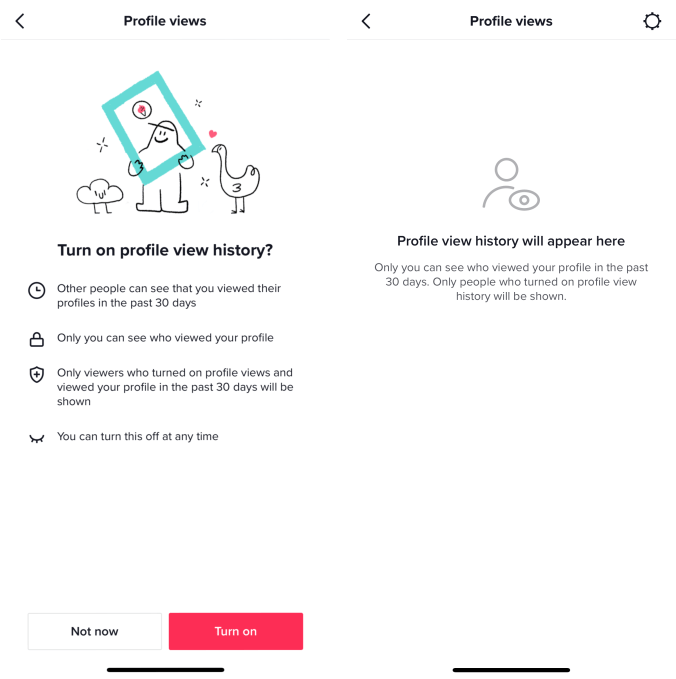

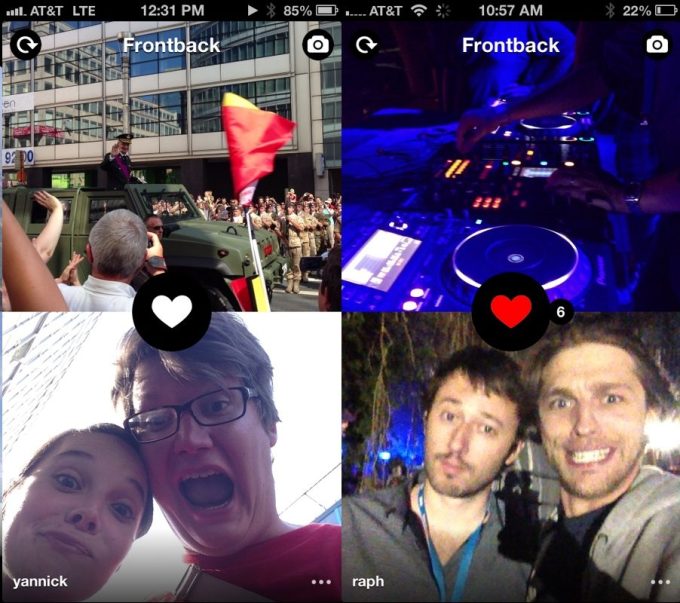
 English (US) ·
English (US) ·